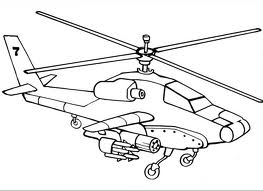Ольга Морозова . Небезинтересная статья.
Феномен гражданской войны, сопровождающийся необычайным разгулом насилия, вызывал интерес, в том числе и этой стороной своего бытия. Насилие – явление разнообразное, это может быть принуждение, угрозы, но может быть и физическое уничтожение людей. Смена у власти политических сил не могла не сопровождаться актами насилия, вопрос в том, когда и вследствие каких общественных механизмов крайняя форма насилия стала обыденным явлением.
Наиболее общим итогом обращения к истории террора в период подготовки и проведения революции в России являются выводы о не только практическом, но концептуальном значении его в схеме утверждения новой власти. Вожди левого крыла российской социал-демократии задолго до 1917 г. обосновывали необходимость решительного подавления сопротивления буржуазии и царизма[1]. Что крестьянский фатализм как свойство патриархального сознания был питательной средой этой тактики. Народный менталитет не сопротивлялся идее террора, т.к. не содержал представлений об абсолютной ценности человеческой жизни, что выразилось в пассивном поведении в тех случаях, когда следовало бы бороться за жизнь. Идеологи революции осуществили теоретическое обоснование террора[2]. Другая сторона увидела в этом бóльшую преступность и причину собственного поражения. Сами же большевики настаивали на обоснованности и жизненной необходимости насилия в таких масштабах; они не стеснялись его, оно было частью политической платформы.
Итак, к 1918 г. сложился взгляд на смерть, в том числе и на насильственную, как на обыденное и даже целесообразное явление; люди перестали беречь собственную жизнь, а не то что ценить чужую. Изменения в массовом сознании, сделавшие это возможным, и идеи, обосновывающие такой образ действий, станут предметом данной статьи. Причем под идеей будет подразумеваться не развитая форма человеческого знания, не комплекс теоретических постулатов, а представление, наделенное силой действия. Теории могут существовать в сознании ограниченного круга людей и в таком виде не оказывать никакого влияния на исторический процесс. Куда важнее те идеи, которые руководят повседневным поведением масс. Эти качества менталитета могут быть переложением теоретических идей на язык толпы. Измененные до извращения от этого они становятся еще более реальными.
Человеческое отношение к смерти в качестве исследовательской проблемы впервые было поставлено французским ученым Ф. Арьесом в работе «Человек перед лицом смерти»[3]. В русской деревне отношение к уходу из жизни было также достаточно спокойным. Крестьянин был частью природного мира, смерть считал естественным процессом, легко вписывающимся в его взгляды на цикличность бытия. «…В народном восприятии смерти есть странное на первый взгляд сочетание: уважение к тайне и будничное спокойствие», отмечал писатель В. Белов[4]. Выполнение традиционного похоронного ритуала должно было обеспечить правильные проводы покойного: чтоб его душа спокойно и без обид покинула этот мир[5]. Степень печали по умершему напрямую зависела от его роли и вклада в семейное хозяйство. Экономический аспект в плачах и причитаниях весьма ощутим. По кормильцу – самые трагические. Причитания по старикам и детям содержат наибольшую долю смирения: «Бог дал, Бог взял».
Отношение крестьян к смерти детей подчас может шокировать. Бытописатель пореформенной деревни А.Н. Энгельгардт приводит в своих «Письмах» много случаев реакции матерей на смерть детей. Крестьянка из бедного двора высказывается о потере младенца так: «Воля божья. Господь не без милости – моего одного прибрал, – все же легче…». Другая деревенская мать на тяжелый недуг любимой и уже взрослой дочери отзывается такой сентенцией: «А и умрет, так что ж – все равно, по осени замуж нужно выдавать, из дому вон, умрет, так расходу будет меньше», она имела в виду, что похоронить будет стоить дешевле, чем выдать замуж[6]. При этом автор «Писем» отмечает, что все это не означает, что детей своих крестьяне не любили; при возможности их баловали, развлекали, привозили с ярмарки гостинцы или брали в поездки только ради того, чтобы доставить удовольствие и радость ребенку[7]. По мнению ученых такое отношению к смерти напрямую связано с высокой смертностью, в т.ч. детской[8].
Более существенным был вопрос о причинах наступления смерти, – быть причастным к чужой гибели было нехорошо. Предубеждение против насильственного прерывания жизни было среди крестьян достаточно сильным. Если случай не вписывался в перечень «разрешенных» убийств, а были и такие, о них ниже, он вызывал большую озабоченность в среде, потому что влиял на посмертную судьбу и жертвы и виновника, который также становился стороной, вызывающей всеобщую жалость. Считалось, что это «он» (бес) подтолкнул на убийство[9].
И все же абсолютных табу на «смертоубийство» не было. В русских деревнях была распространена практика самосудов, которая означала любую форму расправы с нарушителем общинных правил вплоть до убийства, например, застигнутых на месте преступления конокрадов, поджигателей. Самосуд подчинялся определенным правилам и традициям. Решение о нем выносил немедленно созванный после обнаружения преступления сход. Приговор также немедленно приводился в исполнение. Существует два мнения о природе жестокости крестьянского самосуда. Первое винит в этом официальную юриспруденцию, которая казалась крестьянам необъяснимо жесткой, потому что исходила из другой шкалы ценностей, непонятной патриархальным общинникам[10]. Но этнографический материал свидетельствует, что патриархальная жестокость имеет древние языческие корни. Исследователи жизни деревни во второй половине XIX века обнаружили факты гибели людей при совершении разного рода обрядов: изгнание всяческой нечисти; очищение от сглаза; расправы с колдуньями, виновных в наведении порчи, болезней; освещение построек, прежне всего дома; защиты от эпидемий[11]. Эта первобытная жестокость была результатом многовековой борьбы за выживание, облеченной в иррациональные образы. Эти свидетельства интересны и примечательны еще и потому, что еще не была опубликована «Золотая ветвь» Дж. Фрезера, описывающая точно такие же «обыкновения» других народов, а также не был известен археологический материал, подтверждающий существование у древних славян человеческих жертвоприношений при закладке зданий и оборонительных сооружений, память о которых как о крайнем, но эффективном средстве «защиты» могла сохраниться в темном крестьянском сознании.
Убийство в кругу родственников считалось в общине внутренним делом семьи, пока оно не угрожало семейству разорением и таким образом не касалось всего общества. Неугодную жену муж не отпускал назад в отцовский дом, ведь в этом случае с ней нужно вернуть ее приданное; и ее постепенно забивали, причем в расправе могли принять участие все родственники мужа; соседи знали или догадывались о причинах смерти, но это была общая тайна деревни[12]. Об обыденности подобных внутрисемейных конфликтов и о формах его разрешения говорит то, что они зафиксированы в фольклоре. Примером может служить одна из донских казачьих песен:
Как муж-то жену журил, бранил и убить грозил.
Как жена-то мужа уговаривала:
Ты, муж мой, муж, ты законный друг!
Ты не бей меня рано с вечера,
Ты убей меня во глуху полночь,
Наши деточки будут крепко спать,
Ничего-то они не будут знать[13].
В XIX в. реакция российского дворянства на смерть уже отличается от крестьянского фатализма. Это протестное отношение к кончине близких как к явлению неестественному, в котором даже может быть кто-то виноват по халатности, по недосмотру. Ярко выраженной в среде простого народа экономической компоненты тут не сыскать: протест состоит в нежелании терять близкого человека. Уж как обычны потери среди казаков, служивших в местах с гнилым климатом, но известие о смерти от болезни боевого товарища, которому даже не дали никакого «пособия», т.е. лекарства, потому что в лазарете не было даже фельдшера, вызывает бурю негодования у сослуживцев. Смерть от холеры молодой образованной и блестящей дочери наказного атамана рассматривается как несправедливая. Больных близких лечат, не считаясь с затраченными средствами. Но вот отношение к убыли крепостных от эпидемий точно такое же как к падежу скота: «что ж делать[,] богу угодно так»[14].
В этой связи парадоксальным может казаться появление в конце XIX в. символизма, которому пристальное рассматривание смерти кажется верхом хорошего вкуса и тонкости восприятия. Д.С. Мережковский утверждал, что это только требование стиля[15]. Но рубеж веков – время повышенной суицидальности. Пессимизм был свойственен не только декадентствующей богеме, но и думающему обывателю, который мрачно наблюдал, ожидал, что придет нечто, которое сметет все, что он считал «правдой, идеалом, культурой, долгом»[16].
Эстетизация насилия стала предметом не только искусства, но и философских систем разной близости к политической практики (от Ф. Ницше до Ж. Сореля). Десакрализация монархической власти специфическим способом террора происходила по всей Европе. Перечень монархов, на жизнь которых покушались успешно или безуспешно, весьма велик. Два покушения на германского императора Вильгельма I (1878); покушение на короля Испании Альфонса XII (1878); убийство австрийской императрицы Елизаветы (Зизи) Баварской (1898); покушение на итальянского короля Умберто I (1878) и его убийство (1900); многочисленные покушения на императора Александра II. Все эти акции самими исполнителями считались символическими и демонстрационными, они должны были способствовать эмансипации народа от средневековых запретов и предписаний.
Но, как кажется, кровавые акции радикалов никак не разрушили в сознании масс известного табуированного отношения к смерти, к чему так стремились. Анализируя ненасильственные формы воздействия на власть, предпринимаемые рабочими и крестьянами в годы первой русской революции, Е.В. Демидова подчеркивает, что тогда «никто не говорил вслух о ненасильственной борьбе, просто внутри каждого человека существовал запрет на насилие»[17].
Одно дело, когда какие-то нигилисты убивают царя, и другое дело, когда власть начинает убивать народ. Гораздо более существенную роль сыграл переход к «оборонительным», как ей казалось, боям с собственным народом. П.А. Столыпин ввел военно-окружные и военно-полевые суды как меры подавления революционного движения, запретив в них участие юристов. Результатом их деятельности за 1907-1911 гг. стала казнь 8,5 тыс. крестьян[18]. На что Толстой откликнулся статьей «Не могу молчать» (1908). В ней он прямо высказался о преступности той власти, которая казнит своих кормильцев, свою опору. Писателю было очевидно, что кроме прямого зла эти казни несут народу некое «развращение». Толстой имел в виду разрушающее влияние лицемерия власти, совершающей свое насилие «под видом чего-то нужного, хорошего, необходимого» и тем убивающую веру народа в справедливость и святостью таких учреждений, как сенат, синод, дума, церковь, царь.
Усилиями многочисленных жизнеописателей личность последнего российского монарха, сыгравшего не последнюю роль в разворачивающейся драме, подходит под любое амплуа – от ее виновника до жертвы. Как соединить то, что у Николая не вызвали неприятия планы расправы над шествием рабочих в январе 1905 г., военно-полевые суды в деревнях, а на прошении родственников о смягчении участи великого князя Дмитрия Павловича, участника убийства Распутина, он начертал: «Никому не позволено убивать». Что значит «никому»? Никому, кроме государственной машины, должно быть. Образованный Николай наверняка читал Гоббса. Или: безличное убийство есть форма общественного блага. Так чем он отличается от Каляева, который ничего личного не испытывал к взорванному им дяде самодержца. Уже находясь в эмиграции, генерал Г.П. Курлов пытался создать образ человеколюбивого царя и показать несправедливость прозвища «кровавый». Он утверждал, что каждый раз после доклада П.А. Столыпина о деятельности военных судов государь требовал, чтобы случаев предания им было как можно меньше[19].
Образ человеколюбивой власти – непременный компонент представления о государстве как общности подданных и монарха – разрушался, прежде всего, самой властью. Тогда и началось то, что можно назвать формированием ментальных предпосылок гражданской войны.
В революцию 1905-1907 гг. армия приучалась стрелять в народ не только по воле власти, но после провокаций «крайних». Именно бомба, брошенная рабочими в толпу солдат на Тверской улице в Москве в декабре 1905 г., стала причиной того, что армейские патрули стали открывать стрельбу в прохожих при малейшем подозрении на враждебные намерения[20].
Жертвы первой революции принадлежали ко всем слоям и политическим движениям. И самое поразительное, что это почти никого не испугало. Показательны коллизии вокруг обсуждения вопроса о терроре во II Думе. После убийства кадета Г.Б. Иоллеса правые депутаты (!) вносят предложение принять резолюцию, осуждающую политические убийства. Кадеты предлагают связать правительственный произвол и черносотенный террор с попытками уничтожить Государственную думу, т.е. распространить будущий документ и на эти действия правительства. А политические убийства царских чиновников, например, Плеве, они даже признают в чем-то оправданными. Левые же хотят разграничить партийный террор и неполитические убийства и соответственно осудить только второе[21]. Как видим, все фракции Думы проявили известную терпимость к фактам террора – от правых и националистов (например, польского коло) до левых.
Принято считать, что мировая война приучила людей к крови, подточила традиционные стандарты праведного и грешного, привело к формированию и распространению в обществе массового милитаристского сознания. «В том, что наступила невообразимая, беспрецедентная моральная деградация, нельзя было сомневаться, если смотреть на факты», пишет английский историк П. Джонсон[22]. Перепроверим этот вывод на нашем материале и под нашим углом зрения.
Разумеется, народы понесли в мировой войне большие потери как демографические, так и мировоззренческие. Интеллигенция тяжело расставалась с идеями прогресса и абстрактного гуманизма. В малоизвестном стихотворении М. Горького 1914 года есть такие строки: «Как же мы потом жить будем? / Что нам этот ужас принесет? / Что теперь от ненависти к людям / Душу мою спасет?». Правительства воюющих стран целенаправленно будили в солдатах кровожадность по отношению к врагу. На вокзалах в Австро-Венгрии католические монахини(!) вели шовинистическую агитацию, раздавали патриотические листовки, а на вагонах были надписи: “Jedem Russ ein Schuss!” (Каждому русскому – один выстрел)[23].
И все же империалистическая война не притупила остроту восприятия смерти. Все усиливающееся нежелание воевать, братание на фронтах и возмущение жестокими приговорами трибунала свидетельствуют о сохранении на момент крушения самодержавия представления о смерти как чрезвычайном, далеко не рядовом событии. Убийство в бою рассматривалось солдатами как долг, обязанность, наконец, как тяжелая обуза, не меняющая греховной сути этого действия. Но табуированность убийства вне боя все же у большинства комбатантов оставалась.
Все восемь месяцев, разделяющие Февраль и Октябрь, ружье для солдат столичного гарнизона было гарантией того, что их не погонят опять воевать на фронт, что они смогут сами решать степень своего участия в событиях. В целом Февральская революция прошла бескровно, за исключением нескольких случаев в столице. Человек с ружьем упорно продолжал держаться бескровной линии, несмотря на то, что началась полоса насилия над офицерством. В тылу это было преимущественно унижение офицеров: неотдача чести, срывание погон, изъятие оружия. На фронте кровавые расправы случались в момент, когда командование предписывало частям наступать[24]. В октябрьском противостоянии Временного правительства и большевиков многие воинские части заняли нейтральную позицию. Например, бронедивизион стоял на Невском проспекте «с целью препятствия боевым стычкам между обеими сторонами», он был намерен открыть огонь по тем, кто первым применит оружие[25].
Период от Февраля до Октября – это время, когда боролись два чувства – готовность к пролитию крови и боязнь этого. Первое все чаще обнаруживалось у политиков, второе – у масс. В воспоминаниях, написанных в форме дневника, В.В. Шульгин так передает свои мысли 27 февраля 1917 г.: «Я помню… ощущение близости смерти и готовности к ней… Умереть, пусть. Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда. Ах, пулеметов сюда, пулеметов!.. […] Но пулеметов у нас не было»[26]. Традиции экстремальной судебной практики продолжали существовать в период Временного правительства. Тогда были учреждены так называемые «временные» суды. В своей деятельности они не опирались на законы, меры наказания избирались произвольно, протокол заседания не велся, приговор исполнялся немедленно, не подвергался ни апелляции, ни кассации[27].
Но в целом, в социалистическом (небольшевистском) лагере в отличие от правых, которые были в меньшинстве, идея беспощадной борьбы с врагами оставалась неоформленной. Помощник министра юстиции Временного правительства А. Демьянов приказал освободить арестованных большевиков, потому что считал, что их необходимо преследовать не за идеи, а лишь за конкретные действия против существующего строя, вытекающие из этих идей[28]. У многих сторонников Временного правительства присутствовало стремление сражаться с большевиками, «щадя их, как товарищей»[29].
В Петрограде переход власти состоялся практически бескровно, жертв было 11 человек, так же как, например, и в Мурманске[30], но в Москве, Киеве, Иркутске[31] пошло по другому сценарию. Причина крылась в том, что в столице, по сути, Временное правительство лишилось всякой реальной власти, которая постепенно перетекла к Советам; насилия не требовалось, был просто закреплен уже свершившийся факт. А в Мурманске с исключительно пролетарским населением советы с самого начала были пробольшевистскими. Но в других городах органы Временного правительства оказались жизнеспособней своей центральной власти, и там было кому их защищать.
Не прекращаются споры о том, кем начата гражданская война, когда начата; был ли переход к крайней форме противостояния сознательным решением лидеров движений или эмоциональным проявлением накопленной массами ненависти.
В декабре 1917 г. на ст. Александровск Екатерининской ж.д. красногвардейцы разоружали казаков, двигавшихся с Румынского фронта, и отпускали домой с миром[32]. Белые мемуаристы (П.Н. Краснов, А.П. Богаевский) отмечали, что зимой 1917-1918 гг. в станицах практиковали такой способ борьбы с большевизмом молодых казаков как публичная порка. Но генерал Л.Г. Корнилов в январе 1918 г. уже издал приказ: «Пленных не брать». И вскоре во время Ледового похода А.И. Деникин недоумевал по поводу «беспричинного страха» населения к Добровольческой армии. Хотя картина станиц, занятых белыми, им описывается так: «По улицам валяются трупы… сухой треск ружейных выстрелов: ликвидируют большевиков… Много их»[33].
В отношении большевиков ответ на вопрос о времени перехода к террору затруднен противоречивой практикой первых месяцев Советской власти. С одной стороны, первый декрет II Всероссийского съезда Советов – об отмене смертной казни[34]. С другой стороны, убийство министров Временного правительства А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина в ночь с 6 на 7 января 1918 г. в палате Мариинской больницы; расправа с 300 морскими офицерами в Петрограде и на базах Балтийского флота в октябре – декабре 1917 г. Хотя теперь и установлено, что решение об этих экзекуциях принималось на уровне командиров отрядов[35], оно вполне соответствовали настроениям вождей революции. Выступая на III съезде Советов в январе 1918 г., В.И. Ленин заявил: «Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, эксплуатируемых масс против эксплуататоров – да, мы за такое насилие!..»[36].
В ходе боев Красной армии с белыми расстрелу подлежали захваченные в плен офицеры и казаки. Отно¬шение красноармейцев к расправам над пленными было достаточно спокойным. В целом, подобные боевые эпизоды характеризуются красноармейцами как их «работа». Когда под Новочеркасском удалось подбить танки белых и захватить в плен экипажи, то честь расстрела оказавшегося среди пленных английского офицера взял на себя комдив Д.П. Жлоба[37]. Собствен¬норучные расстрелы командирами пленных воспринимались солда¬тами как их участие в тяжелом ратном деле.
Так почему и за что расстреливали красные? Разберем один эпизод Гражданской войны, случившийся в октябре 1918 г. в Пятигорске. И.Л. Сорокин, командующий Северокавказской Красной армией, весной и летом 1918 г. одержавший ряд внушительных побед, и раньше проявлял узурпаторские наклонности, но время его военных удач прошло, и он уже стал не устраивать советские органы. Кроме того, он был замечен в финансовых злоупотреблениях. Узнав о намерении Северокавказского ЦИКа сместить его и провести ревизию штабных документов, Сорокин в тот же вечер арестовал по обвинению в сотрудничестве с «кадетскими» войсками его членов – Рубина, Крайнего, Рожанского, Дунаевского и Власова, и расстрелял их у подножия г. Машук. Объявленный преступником, Сорокин не пытался скрыться, а сдался красным и был застрелен в тюрьме командиром одного из полков Таманской армии.
На «сорокинщину», которая представляла собой типичную стычку группировок внутри лагеря красных, решено было ответить актом красного террора. 7 ноября 1918 г. «в ответ на дьявольское убийство лучших товарищей» были казнены генералы Рузский и Радко-Дмитриев, трое князей Урусовых, двое князей Шаховских, сенатор Медем, бывший министр путей сообщения Рухлов, контр-адмирал граф Капнист и др.
Следствие по делу о гибели Северокавсказского ЦИКа хорошо понимало разницу между виновниками драмы символическими – Рузский и Ко – и реальными – сорокинцы, поскольку было составлено два отдельных списка расстрелянных. Логика красного террора имеет собственный причинно-следственный механизм. Советская сторона принимала в расчет не то, что сделал обвиняемый, а то, что, по мнению обвинителей, он мог сделать и как он относился к новой власти. Казни военнопленных и заложников имели смысл не только как уничтожение боевой силы противника. Существенную роль играла идея санации страны от носителей старорежимных убеждений. В документах, где передается логика убежденных в необходимости террора большевиков, белым ставится в вину развязывание гражданской войны. Она препятствовала налаживанию здоровой жизни в стране и исправлению ошибок (!) новой власти, это и было мотивом устранения их любыми способами от активной роли в жизни страны[38]. Пуля белогвардейцам была назначена за то, что они не хотели смириться с потерей власти, не хотят оставить в покое пролетариат и крестьянство.
Не менее символичной была смерть тех, кто, подчиняясь приказам Сорокина, принял участие в казне членов ЦИКа. Они были арестованы, судимы, во всем признались, раскаялись и были приговорены к расстрелу. Гриненко, адъютант главкома Сорокина, в конце искренней покаянной речи заявил: «Моя просьба к вам, граждане, и к ЦИКу, не расстреливать меня, а дать мне револьвер с одним патроном, чтобы я сам себя убил». Перед смертью он поцеловал револьвер и с присущей тем людям патетикой сказал: «Целую святое оружие трудящихся, несущее смерть врагам революции», и выстрелил себе в сердце[39]. Если б его расстреляли, он уже точно стал бы «врагом революции», смерть же от собственной руки давала ему посмертную надежду остаться возле «своих».
Документы, происходящие из самого большевистского лагеря, подтверждают высокую степень насилия, которая допускалась не только к противнику, но и друг к другу. В приказе об аресте Думенко, подписанном Смилгой, сказано, «в случае сопротивления стереть с лица земли»[40]. Во время боев на Украине командир отряда Красной гвардии рабочих металлургического завода в Таганроге Д.Я. Тертышный во время переправы через Днепр отбился от своих. «Тов. командир и тов. военком» другого отряда арестовали его как «кон¬тру», избили, но вняли его совету, как лучше следует переправиться через реку. Затем ему удалось вернуться в свой отряд[41]. А ведь могли и расстрелять «до выясне¬ния личности».
Но отношения в лагере красных далеко не всегда имели быстрый и обязательный переход от словесных дуэлей к силовым санкциям. Так, в архиве Черноярского уездного исполкома Астраханской губ. есть документы, описывающие конфликт, относящийся к январю 1919 г. В нем переплелось много противоречий. Во исполнение декрета о подчинении в прифронтовой полосе местных властей военному командованию П.П. Студнев, командующий Степным участком Каспийско-Кавказского фронта, назначил начальником местной чека своего человека, а заодно решил произвести ревизию исполкома, т.к. получал много сигналов о нарушениях, творимых служащими этого учреждения. Черноярские советские работники всполошились, но на их счастье в город неожиданно приехала контрольная группа из Царицына. В тот же вечер наиболее заинтересованные исполкомовцы встретились с контролерами и рассказали им многое о «контрреволюционной» деятельности Студнева и его штаба. Вследствие чего последние были немедленно арестованы. Но инцидент завершился благополучно, т.е. бескровно; через сутки после телефонных переговоров с Царицыным и Астраханью конфликт было решено считать исчерпанным, арестованные были освобождены[42].
Для практики дел ревтрибуналов в отношении красноармейцев и красных командиров было характерно вынесение смертного приговора с последующей заменой его высшей инстанцией, например, Президиумом ЦИК, на длительное тюремное заключение «с правом сокращения срока при хорошем поведении»[43].
Много слухов ходило в период Гражданской войны о деятельности ЧК, в которых переплелись вымысел и факты. Последние отразились в материалах Особой следственной комиссии. Ее следователи работали тщательно, и сомневаться в достоверности данных не приходится. Однако собранные воедино эти документы создают впечатление кровавой вакханалии, происходившей на территориях, занятых красными, при участии ЧК. Архивные же материалы местных, т.е. уездных и волостных, чрезвычайных комиссий свидетельствуют о том, что их главными карательными мерами были штрафы и конфискации, а отнюдь не расстрелы.
Нагнетанию страха способствовала печать. Для сравнения выберем две газеты, которые рассказывали об одних и тех же событиях – киевский «Большевик» и шульгинскую «Великую Россию», которая хотя и издавалась в 1919 г. в Екатеринодаре, но была там в «эмиграции» после эвакуации редакции из Киева, поэтому очень живо интересовалась делами в родном городе. В № 293 за 10 (23) сентября 1919 г. «Великая Русь» рассказывается о том, что расстрелы в Киеве проводились в массовом порядке в нескольких помещениях ночью с 12 до 2 часов; затем в № 296 от 13 (26) сентября 1919 г. было приведено точное число расстрелянных – 127 чел.
Советским карательным органам была свойственна публичность в проведении акций террора против классовых врагов[44]. В специальных сводках публиковались списки расстрелянных с указанием мотива приговора. С учетом динамики публикации этих списков можно сделать вывод, что цифра 127 чел. для периода с 5 февраля по 31 августа 1919 г. реальна. Но в большинстве же заметок в белогвардейской печати о зверствах ЧК делается намек о сотнях и тысячах жертв: «террор в тылу красных достиг чудовищных размеров». Речь не идет о попытке дать оценку того, много или мало жертв на счету ЧК, вопрос стоит об использовании этих фактов в пропаганде и разжигании ненависти к врагу.
Параллельно с информацией о борьбе с контрреволюцией «Большевик» описывает ужасы на территориях, подвластных белым, в заметках с названиями типа «Казни рабочих» или «Вот что значит белый террор». Сообщалось, что рабочих и пленных красноармейцев убивают тысячами тайно, стараясь не допустить огласки. В одном из номеров приводилось содержание дневника убитого офицера с описанием того, как поступают в деникинской армии с пленными[45]; но что-то подсказывает, что это подлог, что текст написан редактором с благой целью вызвать у читателя негодование.
Разжигание ненависти рассматривалось обеими сторонами как эффективное оружие борьбы, хотя в этой заочной дуэли газета Шульгина выглядит сдержаннее, чем «Бiльшовик». В целом настрой был на жесткую конфронтацию, пощады от врага не ждал никто. Бывшая красноармейка, вспоминая встречу с командиром в 1919 г., употребила характерное выражение: «Я вам наливала воду в автомобиль, и вы спрашивали, а что если меня поймают кадеты, что сделают. Я вам сказала, кроме ничего, как порежут на куски…»[46]. В конце тяжелого боя где-то на границе Саратовской губ., когда стало ясно, что красные одолевают, «отдельные офицеры стали сами себя стрелять и рвать бомбы»[47].
Отношение белых к врагу было столь же жестоким, как и у большевиков. Случаи расправ с пленными красноармейцами, членами семей красных командиров многочисленны, но в терроре белых отсутствовала концепция. Приказ Корнилова «пленных не брать» не в счет. Это не идея, не лозунг; приказ был издан с целью не перегружать обозы армии, движущейся на Кубань. В белом терроре было много личностного – страха, ненависти, желания отомстить. Свидетельств того, что происходило в армиях Деникина, Колчака, достаточно и у сочувствующих белой идее. Один молодой дворянин, перенесший в трехлетнем возрасте крестьянский бунт и погром родительского поместья, потом вывезенный в Швейцарию, где изучал философию, в 1918 г. вернулся в Россию, пошел в Белую армию и добровольно вызывался вешать красных[48]. Н.А. Раевский в своем военном дневнике 21 октября 1920 г. записал, что когда рядом неслась конница Буденного, и он был на волосок от гибели, то вспомнил «полуголые трупы коммунистов под Славгородом с вырубленными на голове звездами»[49]. Да и в рукописных воспоминаниях красных партизан неоднократно ука¬зывалось, что они очень боялись попасть в руки белых, потому что их «вешали и рас¬стреливали без всякого плена»[50].
Ответ на вопрос о кровавости гражданских конфликтов кроется не в отличиях теоретических и политических мнений, а в противоположных эмоциональных оценках обыденных вещей. То, что одного приводит в восторг, у другого вызывает неконтролируемую злобу и ненависть. Ощущение же невозможности совместного существования усиливается тем, что все остальное одинаковое – и память о прошлом, и язык, и бытовые привычки.
Страшна и опасна была жизнь на фронтах гражданской войны. Но душевная черствость стала типичной чертой не только солдат, но и обывателей. Некий московский врач не постеснялся в своих воспоминаниях описать случай, когда он мог помочь незнакомой больной женщине, если бы приложил немного усилий, но не сделал этого. Свой рассказ он заключил сентенцией: «…Пришлось утешить себя тем, что “социологический опыт”… течет совершенно правильно…»[51], т.е. без постороннего вмешательства. Мать готова перед лицом опасности лично убить своих маленьких дочерей лишь бы они не попали в руки солдат-мародеров[52].
Отношение людей к собственной судьбе также отличалось от довоенного и дореволюционного. По обе стороны фронта на один мотив пели почти одни и те же слова песни: «Смело мы в бой пойдём / За власть Советов / И как один умрём / В борьбе за это», и «Смело мы в бой пойдём / За Русь Святую / И, как один, прольём / Кровь молодую!». Притупленный страх смерти граничил с фатализмом.
Готовность умереть, а не желание победить, подмечал у белых не только человек со стороны, об этом свойстве сознания сторонников антибольшевистского лагеря свидетельствуют синхронные документы, вышедшие из их среды. Новочеркасский казачонок отказывался остаться дома, заявив матери: не могу прятаться, умру, так умру с честью, но не бесчестно[53]. Семнадцатилетний кадет Володя Черепов тоже в письме матери написал: «…Если меня и ухлопают, то не горюй обо мне: свой долг перед Родиной я выполнил, а со спокойной совестью умирать не страшно»[54]. О таких, как они, вспоминал в эмиграции атаман А.П. Богаевский: «Для них не было опасности, точно эти дети не понимали ее. И не было сил оставить их в тылу, в обозе. Они все равно убегали оттуда в строй и бестрепетно шли в бой»[55]. Обреченность чувствовал и их кумир генерал М.Г. Дроздовский: «…Жребий брошен, и в этом пути пойдем бесстрастно и упорно к заветной цели через потоки чужой и своей крови. Такова жизнь... Сегодня ты, а завтра я. Кругом враги...»[56].
Спорным остается вопрос, восприняли ли офицеры военного времени этический комплекс кадрового офицерства. Полагаю, что да. Неофитам свойственно в гипертрофированной форме копировать стиль поведения и мышления своих кумиров. Уж не этим ли вызвано почти религиозное почитание ряда погибших белых генералов? При утвердительном ответе всякие не лучшие традиции русского офицерство – рискованные пари, бравада на поле боя, показное презрение к опасности – не могли не стать образцом для подражания для юнкеров и прапорщиков, недавно произведенных в офицеры.
Исследователи отмечают изменение системы ценностей у белого офицерства: обесценивание жизни – собственной и чужой, настроения жертвенности[57]. Но их жертвенность отличается от одноименного компонента мировоззрения красноармейцев. Красные принесением своей жизни на алтарь революции делали вклад в будущее счастье – свое или следующих поколений. Белые предпочитали умирать не только за Россию, но и в знак демонстрации, особенно в случаях, когда дело касалось чести. Так, в Екатеринодаре после конфликта с казачьими офицерами покончил с собой молодой князь Гагарин. Таким жестом он хотел сказать этим господам: не желаю жить на одном с вами свете[58].
Угнетенный эмоциональный фон у белых совсем не связан с ожиданием поражения. Наоборот, они не допускали мысли об этом и надеялись на победу. В 1919 г. администрация ВСЮР отдавала распоряжения судебным чиновникам по мере освобождения территории от большевиков немедленно являться к своим должностям. Эвакуированная весной 1919 г. из Одессы в Париж дама мечтала вернуться на родину, ведь в Европе вот-вот начнется революция, и она очень надеялась, что к этому моменту в России уже установится порядок[59].
Чем же вызван упадок настроений, если не было ощущения бесперспективности борьбы? Вероятно, крушением привычной картины мира и устоявшегося образа жизни. Случилось так, что многие общественные мифы, на которых был воспитан интеллигентный или просто культурный человек в России, оказались мертвы. Он вдруг ощутил, что совсем не понимает народную массу, ради которой якобы, не находит с ней общего языка, и у него не хватало ресурса учиться понимать ее заново. Этому мешала и демонизация противника, а также низов общества, априори зачисленных в его союзники. Большинство лиц, добровольно вступивших в белые армии, были беженцами с территорий, занятых большевиками. Скудная жизнь при отсутствии налаженной системы снабжения не способствовала сохранению офицерством боевого духа. Прорвавшиеся из Владикавказа офицеры, живя в Екатеринодаре коммуной, не могли даже выйти на улицу, потому что уже обменяли на продукты и штаны, и белье[60]. Именно бытовая неустроенность белого офицерства вызывала озлобление и конфликты с населением, способствовала усилению взаимной враждебности, считал В.В. Шульгин[61].
Р.М. Абинякин отмечает, что карательные настроения и мародерство переживали взлет летом 1919 г., когда Белая армия Юга России вступила на территории, длительное время находившиеся в составе Совдепии[62]. Это имело ярко выраженную карательную, наказующую окраску. Участие в войне рождало у воюющих чувство отчужденности от населения, не участвовавшего в войне. Все стороны конфликта почти в равной степени стремились запугать мирное население, а не завоевать его симпатии. Создается впечатление, что они чуть ли не специально вовлекали в конфликт все больше людей, но сознательным это действие никак не назовешь, ведь обиженные уходили к противнику.
Послевоенное мифотворчество победителей создало образ красноармейца и комиссара уверенного в цели борьбы и убежденного в правильности своего выбора. Те синхронные документы, исходящие из слоя интеллигентных большевиков, которые испытывали на себе минимальное давление внешнего мира (дневниковые записи, семейная переписка), свидетельствуют, что они действительно испытывали в то время эмоциональный подъем и жажду деятельности. Они так же, как и все, уставали от круговорота событий, так же голодали и подвергались опасности, но их подстегивало желание использовать шанс, данный родине, стать свободной страной. К слову сказать, они также видели «безобразные формы большевизма», но полагали, что после перехода к «нормальной жизни» все они будут изжиты.
Рядовые участники Гражданской войны на стороне красных могли испытывать такие же чувства. Бывший красноармеец в 1927 г. вспоминал, что в период войны выжить ему помогали мысли о будущем: «завоюем, и будет хорошо», и этими мечтами он был тогда счастлив, несмотря на то, что ему пришлось пережить очень многое, но он всегда отчаянно боролся за жизнь[63]. Настроения равнодушия к собственной жизни в среде красных в годы Гражданской войны не были отмечены в документах, что говорит как минимум об их незначительном распространении. Красные в массе в годы войны конструировали свой идеальный мир будущего, приспособленным к личным ожиданиям, вера в реальность мечты давала силы и опору. Белые же болезненно переживали крушение и поругание того мира, который им представлялся легитимным.
Эмоциональный подъем, который был свойственен красным в годы войны, исчез после того, как их стали увольнять из армии, оставив без работы и хлеба. Во-первых, накал жестокости не прошел бесследно для душевного здоровья людей. Бывший красноармеец в своей биографии упоминал: «…При ликвидации [белых] в гор. Феодосии мне пришлось участвовать в форменной резне, после чего расстроилась нервная система[,] и я был отправлен в Москву в нервный госпиталь, где меня вылечили»[64]. После статистической обработки одного из фондов в ЦДНИ РО, содержащего автобиографии красноармейцев, оказалось, что около 5% обращений исходят от людей, имеющих неврозы, психозы и иные душевные расстройства, полученные по их собственному мнению в боях Гражданской войны.
Во-вторых, социальные ожидания этого слоя оказались обманутыми. Первая их реакция была пассивной и выражалась в разочарованности и пессимизме. По словам одного из ветеранов, уволившегося в 1927 г. из рядов милиции (что само по себе симптоматично в условиях страшной безработицы): «…Теперь как человек я превратился в мертвый, застывший в вечномолчании мир…»[65]. Разочарование породило суицидальные настроения. Хотя справедливости ради надо отметить, что это общая закономерность для послевоенного мира. Но содержание документов личного происхождения, принадлежащих бывшим бойцам Красной армии, свидетельствует о сильном разочаровании в прежних идеалах. Вторым этапом проявлений неудовлетворенности результатами борьбы стал переход к активному поиску виновников этого.
Таким образом, естественный человеческий инстинкт самосохранения подвергся жестокой коррозии под влиянием ряда факторов. Процессы модернизации разрушили традиционный уклад жизни в городах, в деревнях, у дворян, мещан, крестьян. Царское правительство полагало, что путем насилия приведет народ к повиновению, причем результат действий властей в этом направлении был более существенным и богатым последствиями, чем усилия радикальных групп по использованию террора для десакрализации монархии и пробуждения масс.
Первая мировая война оказалась травматическим опытом для русских солдат и офицеров, но не ликвидировала табуирование убийства вне боя. Этот процесс занял период от февраля 1917 до начала 1918 г. Жестокость, ненависть, насилие и страх использовались всеми сторонами гражданского конфликта как эффективное средство борьбы, дополнительный, а то и главный, стимул к ведению непримиримой борьбы с врагом.
Отношение к противнику в ходе гражданской войны не было конвенциональным: пленные не изолировались как в обычной войне, им или предлагали перейти на эту сторону борьбы или подвергали казни. Со стороны белых отношение к расстрелу было как к наказанию взбунтовавшихся и неисправимых преступников. У красных лучшим методом очищения земли от «устаревших форм человеческой жизни» считалась «шлёпка». Стереотип подобного способа решения проблем стал стандартом поведения в послевоенные годы. Не случайно по отношению к бытовым и личным врагам активно использовалась терминология времен гражданской войны: «белокопытая сволочь», «офицерские денщики» и пр.
Литература и источники - тут - http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?searchPattern=Ольга Морозова&textid=2399&level1=main&level2=articles